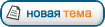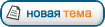литературный конкурс:
«ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ КЕРЧИ»
Что это значит?
Это значит, что вам ни с того ни с сего захотелось описать литературным языком (художественным, в крайнем случае, художественно-публицистическим) свою версию возникновения города Керчи. При этом, не особенно опираясь или вовсе игнорируя общепринятую историческую версию. СКАЗКА О ДОБРОЙ ГОРЕ
— Топ-топ, малыш. К маме, к маме… вот так. Вот, молодец!
— А теперь сам, и без мамы впереди… Отпусти-ка, мама: мы ходить учимся… Нам далеко ещё идти, и мы туда своими ножками дойдём. Верно, малыш? Давай, топ-топ… до того кустика… оп!.. Встали-встали… не ревём… И снова: топ-топ. Теперь вон до того камня!..
_____
— Мама, а папа скоро вернётся?
— Нет, малыш, папа уже не вернётся.
— А почему?
— Лютый зверь встретился нашим охотникам, многие папы теперь не вернутся. Топай, топай ножками: нам ещё далеко идти.
— А куда мы идём, мама?
— Туда, где дом наш будет.
— А дом — это как?
— Это когда разожжём очаг и уже никогда-никогда его не погасим.
— Никогда-никогда?
— Никогда-никогда.
— А если ветер? А если дождь? А если зверь страшный?
— От ветра, от дождя — оберегать будем. Зверя прочь прогоним.
— А если он большой и сильный? Если не мы его, а он нас прогонит? Может такое быть?
— Может, малыш. Может прогнать. Но он не будет поддерживать огонь в очаге, и дом его поэтому тоже не поддержит. Зверь затоскует, ослабеет, и мы его всё-таки прогоним, вернёмся: дом нас будет ждать.
— А эта белая гора, она тоже с нами идёт?
— С нами, малыш, с нами.
— Ей тоже наш дом нужен?
— Ох, надеюсь, что нет.
_____
Я застала их уже в пути. Уже отстающих от бегущего зверья. Не по слабости своей — по разуму: главная угроза миновала — и земля не так дрожала, и рёв с грохотом поутихли, и вода, ледяными глыбами обрушившимися подтолкнутая, ими же и удерживалась теперь, не идёт более валом смертоносным, да и стороной поток тот проходит, обнаружив для себя древнее, иссушенное веками ледяного плена, русло. Лишь где-то далеко, у самого горизонта, покачивается с треском и рокотом затухающим, и как будто движется вослед беглецам, ледяная стена. Но слишком громадна, слишком громоздка она, чтобы догнать.
Люди остановились. В бегстве рассеянные по обширному пространству саванны — травы полегли, вбитые в землю тысячами ног, лап, копыт пронёсшегося здесь зверья — теперь стекаются к возвышающемуся над равниной пологому холму, на вершине которого старшие мужчины, воткнув в землю длинные заострённые копья, повесили на них тотемы: голову орла с распахнутыми во всю ширь огромными крыльями и шкуру льва, простирающиеся над беглецами благословением неба и земли.
_____
Помогала ли я им? О, да, конечно, вполне себе человеческое рвение. Слава силам небесным что к тому времени уже твёрдо усвоила: до трёх не считать… Куда, в какие времена унесло того несчастного, кому не посчастливилось ухватиться за протянутую руку помощи…
Вот тогда со всей отчётливостью я и поняла: богом действительно быть очень трудно. Когда приходит осознание, что всё происходящее — не сон, не мираж и даже не тридивидео. Когда видишь и понимаешь: твои прикосновения ощутимы, твои действия результативны, и результаты эти производят такие преобразования — только ужаснёшься тоскливо чудовищности собственной мощи.
Когда, наконец, выпихнешь из сознания вбитый туда многолетними и многоавторными убеждениями шаблон о примитивности и тупости человека первобытного. Потому как воочию убеждаешься: прежде чем взять в руки палку, — нужно до этого додуматься; прежде чем обезьяна стала homo, она обрела разум и развила́ его мышлением.
Всё это я к чему? Если коротенько, — человек, способный на стене пещеры создать эпическое полотно в стиле «охота на мамонта», уже готов к сооружению монументальных строений — не только пирамид, но и куполов, не говоря о многоэтажных дворцах. Остановка лишь за опытом. А за этим, как нам ведомо, дело никогда не станет. Ибо жизнь есть непрерывное обретение опыта. Такова её природа. И природа такова, что к моменту явления в ней и на лоне её творения сего — человека — опыта в закромах своих поднакопила — бери, не хочу. Вот именно: и не захочешь — научишься. Создав каменный топор, да не знать, как обтесать камень…
Оно понятно: хватает и тех, кому пришёлся по сердцу лишь опыт выковыривания изюма из булок. Ну, то они и остались обезьянами. А кто-то шакалами… Гиенами… Слизняков, опять же, более чем… Сказано бо: «кто на что учился». (Здесь подмигивающий смайлик и буковка «с» в кружочке, мол, плагиатом мы не промышляем…)
_____
— Мама, долго ещё идти?
— Долго, малышка, долго.
— Устала, малышка? Ну, иди к братику на закорки, он тебя понесёт немножко. А мама пойдёт вперёд, огонь разожжёт и будет нас ждать.
— Это будет наш дом?
— Пока — да. А потом мы придём к такому дому, где очаг будет гореть всегда, и всегда будет ждать нас.
— А белая гора нас не догонит?
— Не догонит, малышка.
— А почему она за нами идёт?
— Голодная она…
_____
Этого мира больше не существует. Во всяком случае, в нашем пространстве. Но сказать «исчез бесследно» тоже не получается. Откуда тогда это неизменное «место встречи», куда меня, как всякого добропорядочного преступника, снова и снова выносит. Судьбы ли течением, фантазии ли… Откуда умение управляться с мириадами составляющих этого пласта пространственно-временного континуума? Это делала Деза
(ссылка на произведение автора "Зачем спасать чужие миры"), я просто рядом стояла…
Да полноте, так ли оно было? Ведь как отчётливо помнится ликующий вопль взбалмошной «лариссы», когда внезапно, из-за рабочего стола, я перенеслась сюда, на эту холмистую равнину…
«…Вот так номер! Я почти с интересом проследила за полётом сорвавшейся с ноги шлёпки. Я сидела уже не за кухонным столом, а на краю платформы-виманы… Деза сидела рядом, спрятав лицо не только за свесившейся чёлкой, но и вжимая его в горестную горстку ладошек, между пальцев, на полном серьёзе, протекали целые ручьи горючих слёз.
— Ты сдурела?! — налетела я на неё, — У меня пистолет включённый в руках, кот под ногами… Какие сны, какие фантастики?!
— Какие сны?! — она была искренне ошарашена. Даже реветь перестала, вынув лицо из озера слёз в горстке. — Ма̀лдики… не сон…
— Слушай, отвяжись со своими малдиками! — резко отмахнулась я. — У меня это сон. И в реале я сейчас сижу за кухонным столом, делаю кораблики.
— Малдики не склоняется… — машинально поправила Деза, и глаза её ещё больше округлились. — Сон?.. Реал?.. Ты… — и вдруг резко вскочила, с диким таким, абсолютно киношно-мультяшным ликованием: — Вау! Ты сама пришла! Сама! А они не верили… говорили — не бывает…
Я рванулась удержать её в прыжках на самом краешке платформы: свалиться с пятиметровой высоты, думаю, мало не покажется. Но виманы уже не было. Теперь я сидела, а она прыгала просто на траве. По сторонам горизонта вновь проявились, ранее исчезнувшие из вида, холмы, лес, море, скалистый язык, выползающий из леса… И явно не хватало города… Киммерия в своей первозданности.
— Нет, ещё не Киммерия, — помотала головой Деза. Я смирилась, что чтение мыслей здесь в порядке вещей. — Киммерийцев сюда принесёт только через пять лет.
— Как — «принесёт»?! ...»_____
— Люди думали — она неживая, или, думали, — спит крепко-крепко… Но гора проснулась, встряхнулась так, что клочья шерсти её полетели далеко-далеко. Тяжёлые, острые. В человека попадёт — и нет человека. Даже мамонтов убивала этими сверкающими клочками.
Почуяла гора добычу, загрохотала, заревела голосом престрашным, потянулась схватить, но звери все разбежались. И люди тоже побежали. За ними. И от горы: стала она страшной и опасной, больше не могла быть людям домом. Голодная, ненасытная, идёт и идёт теперь следом за ними, за зверями. И убивает, и пожирает всех, кого настигнет.
— Она и нас догонит и съест?
— Нет, малышка, не бойся. Это звери, привыкли на водопой ходить к самой горе, так, глупые, по-прежнему и подходят слишком близко. А людям не нужно к ней приближаться: вода от неё тоже убежала, течёт теперь сама по себе. Видела?
— Видела. И слушать её люблю. Она тоже сказки рассказывает. Настоящая река. Правда?
— Правда. Спи, малышка.
— Где же теперь будет наш дом…
— Мы найдём другую гору — добрую и хорошую. Принесём ей дары, и она примет нас, защитит… Спи, малышка, нам ещё долго идти…
_____
Наверное, в те времена и родилась поговорка «От судьбы не уйдёшь»…
Днями, неделями, месяцами… Я не собиралась выяснять и уточнять, как они все эти периоды именовали, как они сами себя называли. Уж точно не «киммерийцы» — этим именем их обозначат те, кто придёт к ним непрошенными много веков спустя. А пока…
Шли и шли они, то ли в погоне, то ли гонимые. Всё было сплетено воедино — судьбой, историей, течением событий…
Им неведомо было, что в истории Земли сейчас завершается очередной ледниковый период. И неведомо, что жизнь может быть совсем иной — со сменами времён года, без вынужденного непрерывного кочевья. Без этой неоглядной ледяной стены, до самых туч, а может быть и выше. Она была всегда. Она была спасением — дарила воду, к которой тянулись и сами люди, и звери — лютые и пугливые. Вода была здесь, у подножия стены. А дальше, на дни и дни переходов — простиралась бескрайняя тундра, переходящая в саванну.
Стена позволяла им укрываться в её бесчисленных трещинах и пещерах во время длительных ураганов. Она была их домом.
Так и жили они, в непрестанном движении: то удаляясь от стены, вслед за зверями, в зеленеющую саванну, то возвращаясь под защиту стены — белой горы. И было это вечно и незыблемо, из поколения в поколение.
Но теперь им выпало испытание невиданное.
_____
— Топай, малышка, топай, нам ещё далеко идти…
— А мама скоро вернётся?
— Мама уже не вернётся. Теперь мы с тобой одни остались.
— А как же дом?
— А дом мы всё равно найдём. Только…
— Знаю: нам ещё далеко идти.
_____
Я никак не могла отделаться от ощущения, что где-то, когда-то встречала — нет, не этих именно, — таких же. Какое-то время пыталась отмахнуться от наваждения: фильмов с подобной тематикой побольше «Звёздных войн» будет. Но не получалось: была как будто личная встреча… Смеётесь?! Меня тоже, нет-нет, а смешок пробирал. Пока однажды…
Поиск в Моём компьютере выдал давнее-давнее, ещё доинтернетного периода, с расширением DOC… «Взгляд назад». Перечитала…
«…Я делаю шаг с последней широкой ступеньки на набережной и ощущаю, что земля уходит из-под ног. На всякий случай быстро вернув ногу на ступеньку, я, тем не менее, ощущаю довольно сильный толчок, будто началось землетрясение. Меня качнуло. Мгновенно оглядываюсь назад, на город за спиной, с жутким ожиданием увидеть начало катастрофы…
…Я стояла на чём-то плавучем. Смотрела на берег, на котором, под низко бегущими серыми тучами, возвышалась гора, состоящая из беспорядочного нагромождения громадных и поменьше скал и валунов.
Тяжёлые волны разбивались о подножие горы, прежде ещё пройдя многометровый каменный шельф, больше похожий на рифовый барьер, пенясь на нём и закручиваясь бурунами и воронками. Пристать к этому берегу было абсолютно невозможно. К тому же, вся гора опоясана поднимающейся прямо от кромки прибоя, высокой, в три человеческих роста, стеной. Стена сложена из больших и малых валунов, без видимых следов обработки. Гора очень крутая. Поэтому, непомерно высокая со стороны моря, стена не особо укрывает от взгляда множество строений на склоне, что-то вроде каменных иглу, похожих на приземистых бородавчатых жаб с раскрытыми пастями входов.
От ближайшей хижины к стене бежит человек, держа на отлёте, в левой руке, длинное копьё. За спиной у него виднеется лук, и оперения пучка стрел, неожиданно снежно-белые на общем сизо-серо-чёрном фоне. Мужчина лет тридцати, округлое лицо его обрамлено не слишком длинной кудрявой каштаново-русой бородой. На голове нечто вроде кожаного шлема с «ушами», из-под которых выбиваются длинные, до плеч, волосы, в тон бороды, такие же кудрявые.
Одет мужчина в куртку из шкуры, которая явно не сшита, а сооружена, полы её туго прихвачены на талии широким кожаным поясом, который, в свою очередь, завязан тонкими полосками кожи, обёрнутыми поверх него несколько раз. Полы куртки доходят до середины бедра, руки остаются оголены немного выше локтя, по плечам прикрытые свисающими концами шкуры. К поясу приторочено какое-то оружие: то ли булава, то ли топор на короткой рукоятке, явно тяжёлое. Ступни и до середины голеней ног обёрнуты шкурами, закреплёнными, как и пояс, многажды перекрещивающимися полосками кожи…»Значит, они всё-таки дошли… И эта добрая гора приняла их и хранила…
_____
Ну и как здесь жить? Сплошное нагромождение скал, валунов, едва пересыпанных тощеньким грунтом, на котором и трава-то пробивается какая-то серенькая, чахлая. Да-а, недаром археологи твердят, мол, насыпная гора. Получается, действительно насыпная: ветрами из степей, ногами-копытами-лапами, да колёсами, да и корзинами, и, пожалуй, в большей степени, тоже небось натаскали. Ничего удивительного: у горы ещё много веков впереди, нарастить свой, гориный, «жирок», округлиться, оформиться в то, что царское имя примет, как должное.
Но сейчас…
Я вздохнула, уже не пытаясь разглядеть в тумане ближайшую даль. Села на камень, дожидаться погоды. Погладила его коряво-шероховатую поверхность, улыбнулась: к тому времени, когда он примет на себя миссию подножия Вечного огня, ветры, дожди и прочие природные явления отполируют его почти до гладкого.
Задумавшись, я вертела в руках небольшую пластину известняка: подобрала в той самой пещере, откуда в своё время мы с Лёшкой выбрались в этот непоймигдемир.
Просто из любопытства заглянула, не углубляясь, но всё равно отметила явную границу смещения времени, где дикая доисторическая пещера переходит в штольню каменоломни. На самой границе и лежала эта небольшая, с ладонь, пластинка: с одной стороны сохранившая след циркулярной пилы, а с другой выглядела диким камнем с вросшей в него посередине круглой гладкой ракушкой вроде «замочка», но много крупнее.
Из кармана куртки я достала острый обломок клыка какого-то зверя. Его подобрала на стоянке «киммерийцев», когда подслушивала сказку о доброй горе. Острым концом машинально стала процарапывать чёрточки на мягком известняке.
_____
Я поймала себя на том, что, как и в случае с Дезой, воспринимаю происходящее игрой воображения, чередой взаимосвязанных снов. Причём — не странно ли — эпопея с «киммерийцами» выглядит намного иллюзорней. Может, потому, что теперь у меня нет даже косвенных свидетелей?..
_____
Ближе к полудню солнцу, наконец, удалось пробить плотный облачный покров. Лучи его окунулись в туман низины, жаром своим выжигая в нём быстро расширяющиеся просветы.
Одновременно, с севера, откуда доносился непонятный звук, потянуло ледяным холодом, быстро усиливающийся ветер подхватил обрывки тумана, и он, припав к земле, внезапно замерзая, понёсся прочь сухой колючей позёмкой.
И ближняя даль — взгляд-то с горы, нужно помнить — прояснилась до прозрачности. Так, что казалось: звон, несущийся невесть откуда, зарождается в самом этом вымороженном и выжженном воздухе.
А вот дальняя даль, на мгновения короткие приоткрывшая было взору с детства знакомую холмистую гряду, теперь укрылась за надвигающейся метелью. И в этой неспокойной белой мгле нет-нет, вдруг начали появляться непонятные округлые образования чуть более тёмной тональности. Так снег летящий видится темнее снега лежащего. Но снег так закрутиться не мог — рандомно и шарообразно.
Натягивая капюшон куртки на голову, я повернулась к ветру спиной и с изумлением отметила: пролива не было! То есть, был, был, конечно, но… это скорей река протекала там, где проходит фарватер Керчь-Еникальского канала. И в этот канал, много восточнее привычного устья, впадала… ну, пусть остаётся Мелек-Чесме. А Булганак, получается, её приток. Зато Катерлезка удивила: мало того, что не менее Булганака, так она ещё и притоком его оказалась.
Я не могла найти причины такому сильному обмелению рек и пролива. Ведь явно видно, что относительно недавно все они были много шире и полноводней.
Конечно, мои посещения этого необъяснимого мира нерегулярны и нестабильны по временны́м отрезкам: каждый раз оказывалась в разных временах — то ближе, то дальше, в смысле раньше/позже. Когда на десяток-другой лет, когда на пару-тройку веков. При этом, совершенно бессистемно, как вот эти непонятные шаровые образования, видимые так смутно в сгущающейся пелене бурана.
…И вдруг они оказались совсем рядом. Это какой же силы ветер разыгрался, что загнал их на крутую гору. Один, другой, пятый — шары пронеслись через вершину в отдалении. Большие, до полутора метров в диаметре, они мячами подскакивали, ударяясь о землю, и летели-катились, с этими подскоками, дальше, не позволяя себя разглядеть.
Словно услышав мои мысли, очередной шар выкатился прямо ко мне. Я, было, шарахнулась, но он задержался, зацепившись за острый выступ скалы. И я рассмеялась: перекати-поле!
Огромные, но лёгкие, иссушенные солнцем и морозом, эти курьеры-сеятели умудрились преодолеть лесной заслон на северо-западе. Это как же их пропустили… Неужели…
Я поняла: айсберг, он добрался, наконец, до Азова. И не решилась приблизить перспективу — посмотреть, что там в действительности происходит. Просто побоялась не выдержать такого зрелища. И так воображение красочную картину предоставило…
Да-а… Не сказать, что ладная концовка у этой моей эпопеи… Как там по легенде… — я досадливо пнула вцепившийся в скалу упругий шар, — «Перекати-поле, будь свидетелем?..» Шар отцепился и, обрадованный свободе, унёсся вдаль, подхваченный резким порывом ветра.
_____
— Это она, наша гора?
— Гора, малышка, но, похоже, не наша…
— Почему?! Ты ведь обещал: мы придём к доброй горе, и она будет нашим домом.
— Не плачь, малышка. Просто…
— Она недобрая?
— Не знаю… Но знакомые нам звери обходят её стороной.
— А если мы ей дары принесём?
— Понимаешь, малышка, сказали старшие: другие люди уже принесли ей дары. Для них она стала домом.
— Но ведь наши старшие — сильные и храбрые. Разве не победят?
— Когда-то мы потеряли свой дом… неужели ты пожелаешь такого другим? Эта зелёная гора — не наш дом.
— Значит, нам всё ещё далеко идти?
— Да, малышка. Давай: топ-топ…
_____
…Шар перекати-поля унёсся вдаль, подхваченный резким порывом ветра…
И тут же донеслась от Азова такая дикая какофония — рокочуще-звеняще-шелестяще бурлящая… Из белёсой пелены бурана, едва не обгоняя его, вырвался грязно-сине-зелёный гигантский вал. Оцепенев, я наблюдала, как в считанные мгновения вспучились, разлились во всю ширь древних русел, почти сливаясь в одну, все три реки. Пролив расширялся на глазах, тащил на загривке огромной волны обломки льда вперемешку с камнями, деревьями, зверьми — погибшими и ещё барахтающимися, живыми…
Как всегда, но сейчас, наверное, впервые, это мощное течение, вырвавшись из узкой горловины под Маяком, всей мощью ударило в основание Ак-Буруна, заметалось, скручиваясь в бешено вращающиеся воронки, порождая встречное течение, отталкивающее нарастающий ледово-каменный поток к подножию горы.
Земля под ногами всколыхнулась и пошла мелкой дрожью. Я, выронив плитку известняка, отшатнулась, нащупывая за спиной камень — опереться. Но сзади была пустота: защитная реакция сработала, и меня отнесло на знакомую холмистую равнину, в покой и под солнышко…
_____
Лес… Тайга. Неоглядная, непроглядная, мрачная… Слишком живая, опасно живая. Им, детям тундры и саванны, виделась новой горой. Странной, непонятной.
Они ушли, навсегда ушли от былого своего дома — белой горы: река, убежавшая от ней ещё раньше, постепенно становилась шире, полноводней. Ей уже было тесно в берегах древнего русла, и, в поисках дальнейшего пути, она отвернула в сторону. Вместе с нею ушли с дороги белой горы и звери, а за ними — люди.
И можно было остаться здесь: поставить шалаши из рёбер мамонтов, укрыть их шкурами зубров, медведей. Вода — вон её сколько. Зверья — видимо-невидимо. Но не было главного: надёжного укрытия — от буранов, от хищных зверей. Не было дома.
И тут на пути у них встал лес. Может, и привыкли бы, освоились бы… но этот дом уже был занят. А они слишком хорошо помнили, что значит остаться без дома.
И отвернули в сторону. Туда, где всё ещё ползла слепо белая гора, не замечая, что впереди нет покинувших её. Наверное, она тосковала. Потому что доносился с той стороны рёв и стон, и громкое журчание её холодных слёз.
А потом всё затихло…
_____
Они всё шли и шли. И ещё долго было идти. Но этот долгий путь и спас их: когда обрушилась в море, рассыпаясь на осколки, белая гора, порождая огромные волны, всё сокрушающие, — люди были очень далеко.
_____
— Смотри, сколько много воды!
— Много, малышка, только пить её нельзя.
— А там, с другой стороны, тоже вода есть.
— Та вода ещё горше.
— Старшие говорят: опять впереди зелёная гора. Но не такая.
— Может быть, наша?
— Посмотрим…
_____
Обрушившийся в море айсберг, отголоском Великого ледника, принёс с собой холод. И, едва успокоившись после катаклизма, море замёрзло. Замёрзли реки и пролив, вся местность укрылась толстым снежным покровом.
И когда люди, обогнув, на всякий случай, и «другой» лес, поднялись на возвышенность, перед их взором распростёрлась заснеженная широкая холмистая равнина. А в отдалении виднелась гора. Маленькая, много, много меньше потерянной, она куталась в пушистое покрывало снегов и показалась такой родной, домашней…
_____
А потом наступила весна. И вновь сливались воедино реки и бурлил, бесновался пролив, переполненный водой и осколками льда. Бился мутными волнами о подножие горы, сотрясая её. Будто дух погибшей белой горы не мог простить этой малышке, отнявшей у неё законную добычу.
_____
Ну и что дальше? — думала я, наблюдая неистовый шторм у подножия. Из наблюдений выходило — волны относительно быстро подточат гору, и она разрушится оползнями. Но ведь не разрушилась…
_____
— Нужно защитить гору. Ведь она защищает нас.
— Защищает только от злой воды, но у неё нет ни одной пещеры.
— И мы её защитим от злой воды. А пещеры… смотрите, сколько здесь камней — хватит и гору от моря спрятать, и… пещеры построить.
— А ведь верно: старшие знают, как строить изо льда — может, из камня тоже получится…
… — Получается?
— Всё у нас получится, малышка!
— Но этот камень качается.
— Немножко. А мы, знаешь, что сделаем? Дай-ка вон тот маленький камешек… Вот, подложили — и теперь всё прочно и надёжно.
_____
Внизу, у подножия, волны пролива сердито разбивались о неожиданную преграду — высокую каменную стену, не позволяющую им приблизиться к любимой игрушке.
Я улыбнулась, поглаживая, как верного щенка, небольшой шар перекати-поля, задержавшийся у моих ног. Маленький камешек — пластинка известняка с границы времён, с нацарапанным на её поверхности коротким и пронзительным: Керчь, — легла в основание первого здания первого города.
— Конечно, прочно и надёжно, — сказала я сеятелю и снова улыбнулась: — Будь свидетелем.
14 октября 2021 г.